Далеко не все фотографии, которые сделаны в журналистских командировках, удается включить в репортажи. Время от времени я открываю в компьютере ту или иную папку из поездок, рассматриваю фото, вглядываюсь в лица.
«ГОРЧИНКА ХВОИ НА ГУБАХ…»
Строка в заглавии — из стихов Александра Файнберга. Читайте о нем воспоминания Владимира Баграмова, и, конечно же, стихи самого Александра Аркадьевича.
 А было так… Осень начала 80-х. По Скверу хмуро бродит ноябрь, сгребает остатки листьев в дворницкий подол и ворчит порывами ветра, капает дождь. Бегу, злой как собака — поругался в театре с одним из «корифеев», учил, как надо играть. Хорошенькое начало — первая репетиция и первая основательная ругачка! Настроение — противное, куртку забыл в театре, и капли дождя ловко залетают за шиворот вельветовой рубашки. Перебегаю улицу, вслед гудят машины, летит ненормативная лексика. Плевать! Дождь припустил сильнее, вбегаю в особняк с колоннами, двери приоткрыты, табличка «Союз писателей…»
А было так… Осень начала 80-х. По Скверу хмуро бродит ноябрь, сгребает остатки листьев в дворницкий подол и ворчит порывами ветра, капает дождь. Бегу, злой как собака — поругался в театре с одним из «корифеев», учил, как надо играть. Хорошенькое начало — первая репетиция и первая основательная ругачка! Настроение — противное, куртку забыл в театре, и капли дождя ловко залетают за шиворот вельветовой рубашки. Перебегаю улицу, вслед гудят машины, летит ненормативная лексика. Плевать! Дождь припустил сильнее, вбегаю в особняк с колоннами, двери приоткрыты, табличка «Союз писателей…»
\»Новый век\», № 15, 15.4.2010г.Строка в заглавии — из стихов Александра Файнберга. Читайте о нем воспоминания Владимира Баграмова и, конечно же, стихи самого Александра Аркадьевича.
 А было так… Осень начала 80-х. По Скверу хмуро бродит ноябрь, сгребает остатки листьев в дворницкий подол и ворчит порывами ветра, капает дождь. Бегу, злой как собака — поругался в театре с одним из «корифеев», учил, как надо играть. Хорошенькое начало — первая репетиция и первая основательная ругачка! Настроение — противное, куртку забыл в театре, и капли дождя ловко залетают за шиворот вельветовой рубашки. Перебегаю улицу, вслед гудят машины, летит ненормативная лексика. Плевать! Дождь припустил сильнее, вбегаю в особняк с колоннами, двери приоткрыты, табличка «Союз писателей…»
А было так… Осень начала 80-х. По Скверу хмуро бродит ноябрь, сгребает остатки листьев в дворницкий подол и ворчит порывами ветра, капает дождь. Бегу, злой как собака — поругался в театре с одним из «корифеев», учил, как надо играть. Хорошенькое начало — первая репетиция и первая основательная ругачка! Настроение — противное, куртку забыл в театре, и капли дождя ловко залетают за шиворот вельветовой рубашки. Перебегаю улицу, вслед гудят машины, летит ненормативная лексика. Плевать! Дождь припустил сильнее, вбегаю в особняк с колоннами, двери приоткрыты, табличка «Союз писателей…»
В вестибюле у окна стоят двое — почти одинакового роста. Тот, кто слева, — средних лет, немыслимой голубизны глаза, лохматые, неопределенного цвета волосы, трехдневная щетина,- с улыбкой щурится на меня, неизвестно чему кивает. Справа — хмурый, кривит рот — я ему, явно, не понравился, шевелит кустистыми бровями. Оба дымят, как паровозы.
— Откуда принесло? — хриплым голосом спрашивает небритый мужик.
— Туалета здесь нет! — злорадно усмехается его хмурый собеседник.
— Перебьюсь, — отвечаю, — дождь вот….
— Файнберг, Саня! — тот, что слева, жмет мою руку. — Как тебя?
Представляюсь, и хмурый мужик руку пожал, глухо буркнув:
— Тезка, значит.
Файнберг кивает, а второй недовольно шевелит бровями и дергает подбородком.
Замечаю — на подоконнике, на газете аккуратно сложены горкой бутерброды с килькой. Господи, юность моя московская издалека аукнула, привет прислала в далекую Среднюю Азию!
Поймав мой взгляд, Файнберг протянул бутерброд, мои скулы свел голодный спазм. Ничего вкуснее не ел со времен студенчества, хлеб с маслом, килька и тонкие кольца репчатого лука — отрада души, пиршество сердца, ностальгия! На улице дождь, а мне тепло, вкусно, и два мужика с бутербродами в вестибюле Храма литераторов, кто они? Пауза затягивается.
Файнберг вдруг стал читать стихи. С первых звуков его хриплого голоса они взяли меня за горло. Никогда не слышал, чтобы вот так, не налегая на слово, в отличие от нынешних поэтов, «педалирующих» каждый звук. Его слово лилось и искрилось, на лету становилось объемным — дар, ниспосланный свыше. Не помню, что он тогда читал, и немудрено — прошло 30 лет, но жив во мне тот трепет сопричастности к необъятному и щемящему, тонкому и прекрасному миру поэзии. Через бездну времени вновь ныряю в прищуренные его глаза, вижу ироническую усмешку, мол, вот он я, ребята, доступный мирскому, но далеко не простой мужик, знающий то, что вам не дано.
И сейчас, уже в 2010-м, я понимаю, как он был прав, Александр свет Аркадьевич, знавший тайну русского слова. Пять или больше стихотворений услышал я от него в тот дождливый день в вестибюле Союза писателей. На предложение прочитать свои стихи я отказался наотрез. Потом я жалел, что не взял номер его домашнего телефона. Файнберг мне был необходим как воздух: стихов у меня накопилось изрядно, написано несколько пьес, много песен, прозы. Новый человек в городе, да еще в силу угрюмости характера и чертовых комплексов, я не знал к кому кинуться, чтобы оценили, с кем посоветоваться, — не зря ли вся эта моя «писательская суета» и нравственные муки?
Года через четыре, на Чимганском фестивале авторской песни, когда мы лежали на траве голова к голове, выскребали ложками из банки теплую тушенку и накладывали ее на хлеб, я сознался Сане, как мучился, что не спросил его телефон.
«Ну и балбес!» — буркнул он, чем привел меня в неописуемый восторг, — истинно большой поэт не откажет в общении. Не отмахнется, как от мухи, а с этим я сталкивался не раз. Как же были точны, детальны и невыразимо душевны его  замечания! Он чувствовал строку, слово, ударность и метафору, его неторопливый и кропотливый «разбор полета», по сути, определял жизнеспособность стихотворения, и это не подлежало ни сомнению, ни обсуждению.
замечания! Он чувствовал строку, слово, ударность и метафору, его неторопливый и кропотливый «разбор полета», по сути, определял жизнеспособность стихотворения, и это не подлежало ни сомнению, ни обсуждению.
Спорить было бесполезно и глупо, это как приговор последней инстанции, — точный, абсолютно аргументированный, высказанный с позиций его непререкаемого авторитета, выстраданного, заслуженного и неоспоримого. Никогда не унижал молодого и начинающего, промолчать мог, но это выходило естественно и удивительно тактично, как будто и не читались непонравившиеся ему стихи. Разговор уходил в иное русло и все! Но если кто-то начинал оспаривать право на мнение о собственном «ляпе» или, не дай Бог, оправдывать его, вот тут начинался другой Файнберг — жесткий, непримиримый, категоричный, а порой и жестокий.
Как красиво и зло он за три минуты «растерзал» одно из моих стихотворений, когда я попробовал вякнуть, что «так вижу»! До сих пор радуюсь, что рядом было всего два-три свидетеля, а не больше, причем, из людей далеких от литературы, — повезло. И как я радовался короткой фразе, что «это настоящее», после того, как прочитал ему пару своих четверостиший! Файнберг умел слушать.
Пою под гитару и скашиваю взгляд — как ведет себя мэтр? Саня, Александр Аркадьевич, жует нижнюю губу, сидит на рюкзаке, свесив с колен руки с набухшими венами на кистях, и я понимаю, что ему не все равно, о чем пою — он слушает! И медленно кивает, а я… Я лопаюсь от гордости, что имею честь быть услышанным настоящим проводником и праведником русского слова.
Нет мне дела до окололитературных «дам и ушлых борзописцев», что теперь лезут чуть ли не в друзья к поэту, нашептывающих, что там-то с ним «созванивались», там «были в одной компании», а там он «поддержал и рекомендовал в Союз писателей и хвалил стихи»…. Много желающих примазаться к живой и посмертной славе поэта и словотворца.
С полной ответственностью заявляю: главным другом в жизни поэта Александра Файнберга была его жена, Инна Глебовна, ангел-хранитель, верный и неподкупный страж его творчества и тайных дум. Горьким летом 2009-го, когда он уже неважно себя чувствовал, я не раз в маленькой кухне их квартиры наблюдал, каким взглядом провожал Саня свою жену, хлопотавшую по хозяйству. Она держала его в центре внимания всегда, он был светилом, вокруг которого вращались ее мысли, надежды, вся жизнь. Стоило ему хриплым голосом произнести пару поэтических строк, как она возникала ниоткуда, присаживалась тихо и слушала.
В ней, маленькой, хрупкой, глазастой — разгадка его прекрасных стихов о любви и нежности, о прощании и встречах, именно ей посвящены лучшие лирические строки Александра Файнберга, писавшиеся на протяжении нескольких десятков лет. Щемящие, пронзительные стихи, а из глубины строк проступает та нежность и великая простота слова, что мгновенно отличает настоящего поэта. Не буду цитировать их, Инна Глебовна собирает наследие мастера, и скоро оно увидит свет на радость любителям его творчества. И на счастье нам, уже седым, но помнящим постоянно, что все мы из поросли, взошедшей на могучих корнях поэта.
 … Август 2009 года, кухня уютной, чуть тесноватой квартирки на восьмом этаже… Саня в майке навис над печатной машинкой, что-то достукивает одним пальцем, к углу рта прилипла крепчайшая сигарета, от нее у меня слезятся глаза, и чешется нос. Терплю, ведь Файнберг-стихи-сигареты — неразделимы. Не знаю, сколько он выкуривал за сутки, наверное, уйму. Не раз видел на концертах и литературных встречах, как он бедствует без своих «термоядерных сигарет» и с нетерпением ждет антрактов.
… Август 2009 года, кухня уютной, чуть тесноватой квартирки на восьмом этаже… Саня в майке навис над печатной машинкой, что-то достукивает одним пальцем, к углу рта прилипла крепчайшая сигарета, от нее у меня слезятся глаза, и чешется нос. Терплю, ведь Файнберг-стихи-сигареты — неразделимы. Не знаю, сколько он выкуривал за сутки, наверное, уйму. Не раз видел на концертах и литературных встречах, как он бедствует без своих «термоядерных сигарет» и с нетерпением ждет антрактов.
Поднимает глаза, какая-то детская улыбка и словно бы растерянность:
— Прочти, тут немного….
Беру три листка, Господи, рассказ, так я и думал, не мог он обойти этот жанр, никак не мог, вот она, логика бессонницы, пришедшая из памяти детства и жизненного опыта! Лаконичные фразы, легкое перо и словно бы некая ностальгия, светлая и щемящая печаль о недосказанном, недопетом, недовыстраданном….
Читаю не просто воспоминания, а предельно талантливый экскурс в мир поэта, очень искреннего человека и талантливого литератора. Мало кому дается свыше дар одним «мазком» описать жизненную ситуацию, природу и людские страсти.
— Здорово, Саня, — кладу листы на стол, — только все это собрать надо! Много?
— Хватает!
Уходит куда-то в полумрак комнат, возвращается с черного цвета томиком, открывает страницу, сопит, начинает что-то царапать своим характерным почерком. Написав, протягивает мне — книгу стихов «Лист» с его дарственной надписью! Что я должен сказать?! Перегибаюсь через стол, по ходу опрокидываю пиалу с чаем, целую в лоб с прилипшими потными прядями, слышу хриплый смешок….
Этот том у меня всегда на столе, неверующие могут проверить, я иногда ночами перечитываю стихи друга, и сам, будучи болен, думаю о том, что ничего на этой земле не исчезает, не растворяется в безвестности, если оно искреннее и настоящее. Не может из «ничего» появиться и исчезнуть «что-то» — исключено. Как не может в непостижимой Вселенной из ничего появиться жизнь, так не может исчезнуть воплощенная в строки мысль. И не надо ничего доказывать.
Вот они, стихи Александра Аркадьевича Файнберга — его мысли, чаяния, боль, тревоги и радости, его великая любовь к конкретной женщине — жене, подруге, советчику и ангелу-хранителю! Его печали, щемящие и потрясающе простые слова о вечном и земном — сбывшемся и еще не наступившем.
Накануне великого Дня Победы пойду на Боткинское кладбище, обязательно один, чтобы избежать неуместных разговоров о том, каким он был, не хочу ничего обсуждать, потому что он — ЕСТЬ! Мастер уникального явления поэзии, истинно русский поэт и романтик на этой многострадальной и грешной земле, подобно метеориту, сверкнувший на небосклоне русской словесности. А значит, и в нашей жизни. Опрокину стаканчик «горькой» за светлую его душу, что с немыслимой небесной выси смотрит на нас, напоминая, как прекрасен дарованный нам мир, и если пришел в него — стремись сделать его еще прекраснее во имя тех, кто останется после тебя.
Владимир БАГРАМОВ,
заслуженный артист Республики Узбекистан.
«Новый век», 15.4.2010г.
«…Скрипичный ключ восходит в небо, чтоб музыка на землю пролилась».
АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ
СИРЕНЬ
Давай любовь свою оплачем.
Давай свидание назначим.
Не мучаясь и не грустя.
Сегодня. Десять лет спустя.
Давай сирени наломаем.
Любила ты? И я любил.
Апрель цветет,
как ненормальный.
Апрель заборы проломил.
Сирень горька и безутешна.
Сорви мне счастье наугад.
Мы изменились?
Мы все те же,
как десять лет тому назад.
В глазах твоих — все те же кроны.
В моих — все тот же синий дым.
Стекло с вином губами тронув,
ты говоришь: «Горим?»
«Горим!»
Куда? О чем?
За что горим мы?
Ах, за начало всех начал!
За польский вальс неповторимый.
Он только нам с тобой звучал.
Горим? Горим!
За наши годы. Кольцо на дно
со звоном брось.
За то, что дым сирени горек.
За все,
что в жизни не сбылось.
Любовь, куда?
Не оглянулась.
О это вечное «увы».
Горим же за чужую юность!
Они целуются, как мы.
Горим за все!
За наши беды.
За эту музыку и боль.
За этот мир,
от яблонь белый
и от сирени голубой.
* * *
Прет жасмин по загородным дачам.
Треплет куртку майский ветерок.
Выпала мне главная удача
никогда я не был одинок.
Никогда не добывал я славу.
Мне, ей-богу, это не с руки.
Я смеюсь, в котел бросая лавры,
годные кому-то на венки.
Нравится мне жить обыкновенно.
Весел дом. Не предали друзья.
Все прощая, остается верной
женщина красивая моя.
Что с того, коль отзвенев струною,
сгину я у века не в цене?
Есть кому склониться надо мною.
Есть кому заплакать обо мне.
* * *
СИБИРЬ
«Во глубине сибирских руд…»
А. С. Пушкин
Завидуя зверью в берлогах,
во благо трона напролом
не я здесь прорубал дорогу
казенным тяжким топором.
Не мне в лицо хлестали ветки.
В колодки прочные обут,
не я срастался с вагонеткой
во глубине сибирских руд.
Здесь не моя в морозе лютом
кирка скалу долбила зло.
Не я мечтал хоть на минуту
познать блаженное тепло.
Не у меня смерзались пальцы.
Не я, терпение храня,
в пургу без сил на шпалы падал.
И поднимался вновь не я.
Здесь в небесах под лунной пылью
не мне отпущены грехи.
Не я лежу в земле Сибири,
чтоб кто-то сочинял стихи.
Так пусть же долг мой честно платит
больная совесть, а не страх.
Да будет мне всю жизнь распятьем
горчинка хвои на губах.
Да не погаснет надо мною
непреходящий свет вины,
как над сибирскою тайгою
кайло извечное луны.
* * *
Скоро слово станет мною.
Ни восторгов, ни обид.
Чайка вскрикнет над волною.
Лес в ответ ей прошумит.
(Из неопубликованного)
 Подъезд родной мой в двухэтажном доме,
Подъезд родной мой в двухэтажном доме,
балкон дощатый — жизни самый верх.
И двор блатной наш, вольный и футбольный,
любимый двор однажды и навек.
Там за Атлантикой канадские туманы,
в брега Хоккайдо бьёт чужой прибой,
а здесь с балкона только голос мамы:
— Домой, Шурёха. И опять: — Домой.
Пустынь барханы, зыбких волн паромы
ничто меня за сердце не берёт.
Мне даже гул и грохот космодромов фигня.
Балкон дощатый. Вот он.
Вот он. Вот.
* * *
Когда? Тогда. Когда-нибудь…
Быть может…
Рванёт мальчишка по крутой дорожке.
Пацан. Знак гениальности на лбу.
Рванет за правдой, закусив губу.
Мы знаем — у него судьба своя.
На сердце — ни подлянки, ни вранья.
Дан путь ему от Бога заревой,
как в юности когда-то нам с тобой.
Но мы из тех, кто не достиг итога.
Помолимся же за его дорогу.
* * *
О, памяти следы. Они всё те же.
Куда ни кинь — футболка, самокат.
Валерка, Граф и Колька, и, конечно,
с Первушки девочка сто лет тому назад.
Дым первой сигареты. Слёзы льются.
Предатели, что вправду не из книг.
И если вдруг случится оглянуться,
сто лет не тянут на единый миг.
* * *
Я жил, я был. Спасибо всем, спасибо.
И камушку, и вам, гранита глыбы.
И маршам на плацу в Таджикистане,
и склонам гор, где родники хрустальны,
И ротному, что слыл бойцом бывалым,
что он из кабеля соорудил цимбалы.
Как он играл на них! Как он играл!
Свеча пылала. Умолкал хорал.
Жизнь и любовь. Да так, что сердце рвётся.
И вновь пустыни. Без воды колодцы.
Но музыка… Я жить ещё хочу.
Судьба, молю я, не гаси свечу.
Но если меня вправду не спасти,
спасибо всем. И Бог меня прости.
публикация в \»Новом веке\», № 15, 15.4.2010г.
|
Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Telegram |
Еще статьи из Личности
Накануне и в День Победы — особое настроение. Моя мама о себе в такие майские дни говорила: «на взводе». На нерве. Теперь мы за наших старших, когда их уже нет, также на взводе, на нерве. Перечитала папины письма с фронта. Посмотрела фотографии…
О фронтовой почте в «Правду Востока». Газета в ту пору была гораздо меньшего, чем теперь, формата и не могла поместить все письма, приходящие с фронтов от Украины до Заполярья. Но все они были прочитаны и ни одно не осталось без ответа.
Каждую дату после начала публикаций 2 февраля 2009 года воспринимаю с удивлением. В самом начале мне говорили, что на энтузиазме сайты долго не живут. А мы вместе с читателями 16 лет!
Раим Фархади оставил глубокий след в литературе, написав более 50 книг в жанре прозы и поэзии. Написал немало стихов, выпуская детский экологический журнал «Булокча» («Родничок»). А ведь эти стихи и для взрослых. Одно из них: «В огне пожаров».
Старожилы стараются восстановить и сохранить в памяти, чем замечателен тот или иной уголок старого Ташкента. Дискуссия по этому поводу в социальных сетях подвигла меня всмотреться в пару-тройку семейных черно-белых фото.
Мой путь в журналистику начался в Узбекском обществе дружбы и культурной связи с зарубежными странами — УзОДКСе. Поразительно, но именно там. Занесло совершенно неожиданным образом.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил 12 ноября в Баку на пленарной сессии Саммита мировых лидеров в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР29).
Памятник поэту установлен в Ташкенте в парке имени Алишера Навои. Здесь и состоялись торжественные мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения Александра Файнберга.
В сборнике — воспоминания коллег, учеников и соратников Виктора Абрамовича Духовного.






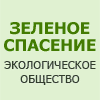



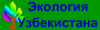

Закройте окна мутным утром
Комментарии из Фэйсбука
Vlad Zamanov: Воздух в столице ниже плинтуса, следующая на очереди питьевая вода. Роза ветров, продуваемость, понижение температуры зелеными насаждениями- теперь это архаизмы из прошлого, стоит лишь только ностальгировать. * * * Тамара Санаева: Этот запах гари в районе ТТЗ держался до 22 часов, потом слегка повеяло свежим воздухом. Вот вам и "гуляйте на свежем воздухе". Чем мы дышим? Какие последствия вызывает этот "свежий воздух" для здоровья горожан? Наверное, многие ощутили это на себе: частые ОРВИ, бронхиты, сердечно-сосудистые проблемы и т.д. * * * Николай Хан: Мухи исчезли... Это что-ж такое в воздухе? * * * Оксана Мельник: Я думала, что я одна заметила, что мух нет. У нас дом старого образца, толстые стены и каждое лето большие мухи прятались от жары в подъезде. В этом году нет ни одной. И возле мусорки нет.
ЮНЕСКО: будущее Западного Тянь-Шаня под угрозой из-за проектов ГЭС
Комментарии из Телеграмм-канала sreda.uz:
Тимур, Проект: А экологические последствия считал кто-нибудь? * * * Наталия: Так в том-то и дело, что цену рек никто не считал. Как аукнется? * * * Валентина: Уже писали в СМИ, что и экономически, и экологически невыгодно строительство малых ГЭС. Кредиты, без сомнения, освоят... Кто будет отдавать??? * * * Ded Pihto: Малые ГЭС работают корректно на перепадах от трех метров и выше. Для выработки энергии более 300кВт перепад нужен уже 6-8 метров. Часть каналов у нас зимой перекрыто - и выработка не ведется. Срок окупаемости увеличивается. Туда же ещё и проблема, что в часть каналов вода подаётся электронасосами. И если поставить на эти каналы ГЭС, то скорость течения будет снижаться и соответственно будет расти расход энергии. Предыдущая попытка выделить 150 площадок закончилась штучным вводом в эксплуатацию. * * * Наталия: Спасибо за комментарии. Проблема понятнее. * * * Ded Pihto Всегда рад помочь.
Что может гореть в пустыне?
Комментарии из Телеграмм-канала sreda.uz:
- Z A: Это газовое месторождение по среди пустыни. Я почти рядом проезжал от этого факела. - Anna Тен: Мы такое видели около Талимаржана лет шесть назад. Нам сказали, что в газовых трубах, которые идут с места добычи, оседает мазут и что так очищают трубы газовые от него. Не знаю, это правда или нет. - Наталия Шулепина: Спасибо, теперь понятнее. Факел не виден. Вот около экоцентра Джейран, там факелы видно. Здесь просто дым. - Хасанов: Газовые трубы очищают, а мазут - в окружающую среду?! Дешево и сердито?!
Рассеивание водного стока от памирских высот до амударьинских тугаев
Спасибо, Наташа! Как всегда, отличный познавательный репортаж с фотографиями. с уважением, Муазама Бурханова
Туркменский опыт: сады и теплицы на неудобьях. Фисташка
Евгений
Хотелось бы увидеть обзорный репортаж о берегах Аму-Дарьи , фото , рассказ о поселения людей, их хоз.деятельности
Как приумножить леса в Узбекистане?
Матильда
Возле ЦУМа в парке растут колонновидные дубы и конские каштаны. Насколько они могут прижиться на склонах холмов и адыров?
Туркменский опыт: томаты и сертификаты
Ангелина
Очень познавательно! Как бы сделать такой же репортаж с такими же подробностями про теплицы в Узбекистане.
На улице Ульяновской в Ташкенте
Очень тёплые фотографии.
Законодатели рассмотрели включение в законодательство Узбекистана нормы об отмене права на землю
Ангелина Борисовна Однолько
То есть земля станет настолько дорогой и невыгодной; что люди перестанут заниматься с/х? Или в итоге это приведет к росту цен на с/х продукты?
Вызовите свидетелей, проверьте доказательства и судите
admin
Как журналисту, мне много раз приходилось бывать на судебных процессах. Разных. Был даже процесс, когда судили инженера и дали срок за то, что компания, в которой он работал, предложила своим клиентам Скайп. Тогда это было внове. Насчитали в суде огромный ущерб государству, ведь благодаря интернету люди стали меньше пользоваться междугородней телефонной связью. Руководитель компании успел выехать из Узбекистана, а на инженера, как только он по повестке пришел в прокуратуру, надели наручники. Суд его приговорил к тюремному заключению. Поэтому возникает вопрос об ответственности следствия и судей. Как известно, Скайп и Вотсап очень быстро вытеснили междугородную телефонию. Мне этот случай запомнился. Обвинения сотрудникам Госбиоконтроля в нанесенном ущерба государству из того же ряда. Четырех с половиной миллиардов сумов ущерба, оказывается, не было. Восемь лет понадобилась, чтобы суд сделал такое заключение. Еще ряд обвинений не снят. Подождем. А вот с этой колоссальной сумой как быть? Кто-то же ее насчитал!